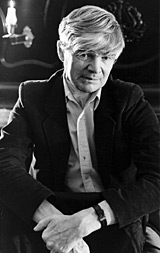
В эти дни автор книги «Москва — Петушки» Венедикт Ерофеев мог бы отметить свое 65-летие. Легендарного писателя вспоминает его теща — Клавдия Андреевна Грабова.
Она прожила с четой Ерофеевых шестнадцать нелегких лет и осталась в той же квартире, где умер Веничка и погибла Галина. Мы пьем домашнее вино и заедаем розовым, тоже домашним, салом — привез сын Венички от первого брака. Вы, конечно, помните самого пухлого и самого кроткого из всех младенцев, который уже знает таинственную букву «Ю»? Младенец подрос и женился на очень хозяйственной женщине; у них своя ферма.
Галина пережила мужа на три года и три месяца. Жить без него она не хотела. «Я ее понимаю, — говорит Клавдия Андреевна. — В его глаза-незабудки нельзя было не влюбиться навек». Она рассказывает, а потом себя перебивает: «Да что говорить. Вот я тебе тетрадку покажу».
Листаю бухгалтерскую «книгу учета», исписанную в прямом смысле вдоль и поперек. Это тетрадь Галины. Шарады и рифмы пересекаются цифровыми кодами, фразы по-французски наезжают на латинские изречения. А вот пошли цифры. Понять могу только один ряд: 3/6/15/33. Веня. Видимо, где-то здесь затерялась и математически рассчитанная Галиной Ерофеевой дата смерти Венички. В середине тетради фигурным, витиеватым почерком выведено: «Воспоминания о Ерофеевых». Их автор — Клавдия Андреевна. Вот они.
«Немного о себе. Замуж я вышла в 1938 году. С мужем была очень счастлива и думала, что так будет всегда. Через год у нас родился сын. Летом, когда ему было шесть месяцев, я с сестрой поехала в Кусково. Бродили по аллеям Шереметевского парка, сидели на лавочке под старым дубом. Вдруг подходит к нам сербиянка и говорит, что предскажет мне судьбу и слова ее я буду помнить всегда. Вытащила маленькое зеркальце и велела затуманить. Мне тогда было восемнадцать. Предсказала она, что моя замужняя жизнь будет очень короткой, что родится у меня еще ребенок — девочка, а в 22 года останусь я вдовой.
Было воскресенье. Дома собрались друзья мужа, молодые инженеры. Я испортила им хорошее настроение своим рассказом. Муж отругал меня, сказав, что я слушаю всякую ерунду, и просил все забыть.
Прошло полтора года. В 1941 году, в мае, 21 числа, я родила дочку Галину, а в июне, 22-го, началась война. Сыну был год и шесть месяцев, а дочке месяц. Мужа взяли на фронт, и он ушел, расцеловав их. Вот и все. А нас эвакуировали в город Муром. Горе соединило нас с моей хозяйкой, тетей Дусей. Прошло три месяца. Никаких вестей от мужа не было, я все время плакала. Не осталось ни продуктов, ни денег.
В большой комнате, в левом углу висела икона. Тетя Дуся меня пожалела и велела стать перед иконой и молиться. Я не знала ни одной молитвы и просила у Бога своими словами, чтобы приехал мой муж хоть посмотреть на нас. Молилась я в полночь, а в шесть утра совершилось чудо: перед домом остановилась машина, и я увидела мужа, его отпустили на несколько часов. Он пошел к председателю колхоза и попросил, чтобы нам помогли. Мы тут же переехали в отдельный домик. Муж расцеловал детей, и мы простились с ним навеки.
Наступила зима, а у нас ничего теплого не было, и с большими трудностями мы поехали в Москву. По нескольку суток ждали парохода, мерзли, голодали. Оставшись одна, с детьми на руках, я очень испугалась жизни. Я вышла из каюты, встала на краю палубы и решила броситься в Оку с девочкой на руках. Но когда откинула простынку с ее личика, чтобы попрощаться, она открыла глаза, посмотрела в небо и улыбнулась. Ее улыбка спасла нас обеих. Я представила, как она будет захлебываться водой, и от страха сделала шаг назад. В каюте оставались сын и моя сестра, и я была счастлива, что мы опять вместе.
Работа у меня в Москве была тяжелая, приходилось таскать тяжести по многу часов. Я ходила по двенадцать километров, неся на себе до сорока килограммов картошки.
